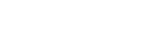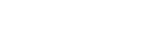| Главная » Статьи » Краеведение |
Стихи быстро распространились в списках, и имя их создателя было у всех на устах. Оно тихо прошелестело по светским салонам, уже громче прозвучало в студенческих и литературных кругах и пугающим эхом отозвалось в широких слоях населения. Так родился новый поэт, поэт – трибун – двадцатидвухлетний Михаил Лермонтов! Ничья слава еще не была столь внезапна и столь опасна. Сказав правду о великом поэте, он обрек себя на вечные гонения… Наверное, мало людей, а тем более поэтов, с такой напряженной, трагичной судьбой. Уже в детстве он познал горечь от развода родителей и ранней смерти матери. А в юности, его горячее сердце, жаждущее любви, больно разбивалось о стену равнодушия и холодности. Любимые женщины доставались другим, товарищи по учебе и службе сторонились его, находя дерзким, надменным и вспыльчивым. И только немногие, прозорливые и вдумчивые, сразу поняли, что рядом с ними -Гений! Белинский, например, безошибочно угадал могучий дар молодого поэта и всегда с восторгом встречал его новые произведения, в которых год от году зрел протест против существующих порядков, мысль о судьбах русского общества. Его стали называть то вторым Пушкиным, то сравнивал с Байроном, на что он отвечал: «Нет, я не Байрон, я другой Еще неведомый избранник Как он, гонимый миром странник, Но только с русскою душой…»
Пафос Лермонтовских обличительных стихов легко сопрягается с его думами о судьбе народа. Он любил простой народ, и в детстве, в селе Тарханы часто бывал участником крестьянских праздников и обрядов. Слушал задушевные девичьи песни, очаровываясь их сердечностью и искренностью. Думаю, что можно смело тутверждать – народный поэтический язык стал для Лермонтова первой школой искусства. «И в праздник, вечером росистым, Смотреть до полночи готов На пляску с топаньем и свистом Под говор пьяных мужиков»
А разве его «Песня про Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» не про народ? Белинский писал, что колорит песни «весь в русском народном языке». Естественно, что любя народ, Лермонтов не мог не любить и страну этого народа, свою родину. И он действительно любил ее, но горделивый пафос кровавых побед и казенного патриотизма были ему чужды: Люблю отчизну я, но странною любовью! Не победит ее рассудок мой. Ни слава, купленная кровью, Но я люблю — за что, не знаю сам —
Однако любовь не затмевала ему действительность. И уезжая на Кавказ, он писал: Прощай, немытая Россия, Страна рабов, страна господ И вы, мундиры голубые,
Но и там не спрятался от «всевидящего глаза». Кавказ принес ему не только вдохновенье, но и гибель… … Вглядываясь в эту судьбу сквозь призму времени, мы не только печалимся и негодуем, но и удивляемся и восхищаемся его редкостной, уникальной одаренностью. В нем как бы объединились поэт, музыкант, художник. И в любом из этих искусств он проявил выдающие способности . попробуем разобраться в этом подробнее. Читая стихи Лермонтова, мы сразу улавливаем их природную музыкальность: Выхожу один я на дорогу, Сквозь туман кремнистый путь блестит; Ночь тиха. Пустыня внемлет богу, (Так и хочется запеть эти строки! И ведь запели, и поют уже два века!) Эту природу стихов Лермонтова тонко подметил А. Огарев: «Они так изящно выражены, что их можно не только читать, но и петь, да еще на совсем особенный лад». Лермонтов сам отметил ту роль, какую играют звуки в его мировосприятии. В письме к Марии Лопухиной ( в младшую сестру которой – Вареньку поэт был безответно влюблен) он пишет: «Мне благотворны были бы самые звуки ваших слов. Право, следовало бы в письмах ставить ноты над словами». И в этом – весь Лермонтов! Ему мало смысла слов, ему нужны и звуки слов. Его творчество представляет собой высочайшее торжество музыки слова, мелодии ее стиха, музыкального движения речи, придавая неизъяснимую прелесть самой поэтической интонации:
Есть речи – значенье Темно иль ничтожно, Но им без волненья Внимать невозможно
Как полны их звуки Безумством желанья! В них слезы разлуки, В них трепет свиданья.
Его первые, еще неосознанные, еще неясные впечатления от музыки зародились от пения матери Марии Михайловны: «Когда я был трех лет, - вспоминает он, - то была песня, от которой я плакал. Ее не могу теперь вспомнить, но уверен, что если б услыхал ее, она произвела бы прежнее действие. Ее певала мне покойная мать…» В Московском Благородном пансионе (позже Университете), куда Лермонтов поступил в 14 лет, обучали не только наукам, иностранным языкам, но и искусствам: - стихосложению, декламации, рисованию, танцам и музыке. Естественно, что при необычайной одаренности Лермонтова это очень скоро принесло прекрасные плоды. Особенных результатов он добился в музыке, занимаясь одновременно по классу фортепиано, скрипки и флейты. Успехи Лермонтова – скрипача были столь несомненны, что он был даже допущен к участию в публичном выступлении воспитанников, получив за свою игру много аплодисментов и одобрительных слов. Любил Лермонтов и помузицировать в кругу друзей. По свидетельству его друга Н. Раневского он играл на фортепиано достаточно уверенно, хотя и не обольщался на счет своих достижений, не брался за фундаментальные произведения. Чаще играл лирические пьесы, называя их «музыкой моего сердца». Раевский вспоминает: «Лермонтов имел склонность к музыке, живописи, поэзии, почему свободные у обоих часы проходили в сих занятиях». Несколько позже, уже на Кавказе Лермонтов (по воспоминаниям полковых товарищей) любил взять флейту и уйти в горы. И вскоре оттуда раздавались чистые, завораживающие звуки, усиленные горным эхом… Кажется, что этого вполне достаточно для нашего изумления музыкальным талантом Лермонтова. Но не спешите – это еще не все! Оказывается, он обладал еще и вокальными данными и даже брал уроки пения у знаменитого итальянского тенора Перотти, преподававшего в пансионе. В письме к Лермонтову его кузина Александра Верещагина спрашивает «А ваша музыка?.. По – прежнему ли вы поете дуэт Семирамиды, полагаясь на свою удивительную память? Поете ли вы его как раньше во весь голос и до потери дыхания?» Да, он пел, всегда по – разному и неожиданно для окружающих: мягко и проникновенно русские народные песни; забавно, говорком, французские куплеты; во весь голос, со слезой итальянские арии. Кажется невероятным, но я перечислила еще не все стороны музыкальной одаренности поэта. Оказывается, он иногда, под настроение сочинял музыку, конечно, никогда не распространяясь о своем увлечении, а тем более, не издавая ноты. Мы знаем об этом по редким дошедшим до нас свидетельствам современников. Известен, например такой случай. Однажды, по долгу службы, Лермонтов приехал в станицу Червленую и остановился на ночлег. Войдя в отведенный ему дом, услышал песню и увидел молодую казачку, качавшую колыбель. И так проникновенно, так мягко звучал ее голос, что Лермонтов замер в дверях, дослушав до конца песню, тронувшую его сердце. Потом быстро подсел е столу и набросал строчки:
Спи, младенец мой прекрасный, Баюшки – баю, Тихо смотрит месяц ясный В колыбель твою.
И тут же напел окружающим свой мотив, подставив над словами ноты и назвав песню: «Казачья колыбельная». К сожалению, время не сохранило мелодию, но остались стихи, воплощенные во множестве музыкальных вариантах. Но Лермонтов не только сам играл и пел, он был чутким благородным слушателем. Какие изумительные строки он посвятил певице – любительнице Прасковье Бертеневой, прозванной «московским соловьем».
Скажи мне: где переняла Ты обольстительные звуки? И как соединить могла Отзывы радости и муки? Премудрой мыслию вникал Я в песни ада, в песни рая, Но что ж? Нигде я не слыхал Того, что слышал от тебя я!
Из воспоминаний современников мы узнаем, что Лермонтов часто посещал оперные спектакли. В то время на столичных сценах ставились итальянские оперы Беллини Россини, но шли и русские – «Аскольдова могила» А. Верстовского, «Иван Сусанин» М. Глинки. «Я каждый день ездил в театр» - писал Лермонтов в феврале 1838 года. Иногда по слуху подбирал понравившиеся ему арии, аккомпанируя себе на рояле, или выучил по нотам оперные увертюры. Известно, например, что он любил и хорошо играл увертюру из оперы Обера «Немая из Портичи» или «Фенелла», как называли ее в России. «Играете ли вы по – прежнему увертюру «Фенеллы?...» - интересуется в уже упомянутом выше письме А. Верещагина. Лермонтов даже упоминает об этой увертюре в рассказе «Княгиня Лиговская»: «Давали «Фенеллу… Когда Печорин вошел, увертюра еще не начиналась, и в ложи не все съехались… Загремела увертюра. Зал был полон, и только одна ложа оставалась пуста… Это ему казалось странно, и он желал бы. Наконец, увидеть людей, которые пропустили увертюру «Фенеллы». Любил он и балет, и особенно восторгался знаменитыми балеринами – итальянкой Тальони и россиянкой А. Истоминой. Находясь в Петербурге, Лермонтов любил бывать в музыкальном салоне братьев Виельгорских – серьезных знатоков и ценителей музыки. В их доме выступали не только известные русские музыканты, но и иностранные знаменитости. Именно здесь он познакомился с замечательной польской пианисткой Марией Шимановской, восторгаясь мягкой кантиленой и виртуозным блеском ее игры. Отзвуком на эти вечера стала его неоконченная повесть, начинавшаяся словами: «У графа В. был музыкальный вечер. Первые артисты столицы платили своим искусством за часть аристократического приема…» Душа Лермонтова была переполнена музыкой, звуки в ней каким – то непостижимым образом складывались в целые картины, фантастические сцены и, естественно, воплощались и в творчестве, и в описаниях явлений и предметов, не связанных непосредственно с музыкой. Вспомните хотя бы, сколько музыки услышал он в звоне колоколов: «Звон московских колоколов подобен чудной, фантастической увертюре Бетховена, в которой густой рев контрабаса, треск литавр, с пением скрипки и флейты и образуют одно великое целое… И мнится, что бестелесные звуки принимают видимую форму, что духи неба и ада свиваются под облаками в один разнообразный, неизмеримый, быстро вертящийся хоровод. О, какое блаженство внимать этой неземной музыке!» Не правда ли, так написать мог только музыкант до мозга костей! Но, все – таки, необычная музыкальная одаренность Лермонтова имела бы второстепенное значение, если бы ни отозвалась такой мощной нотой в его творчестве. И это было услышано и подхвачено самой музыкой и развито ею с такой невероятной силой, какая есть только у музыки. Однако, тема «Лермонтов в музыке» столь обширна, что требует отдельной статьи. Скажу только, что лишь Пушкину Лермонтов уступает в количестве стихов и прозы, воплощенных в музыкальных произведениях разных эпох. Но побочные таланты великого поэта не ограничиваются музыкой. Он был еще и талантливым художником, оставившим нам множество рисунков, акварелей, портретов. Я была в Пятигорске, в домике – музее Лермонтова и видела некоторые его работы поразившие меня, прежде всего, романтической манерой письма. Кавказские горы, ущелья, домик над морским обрывом, замок Тамары, башня в селении близ Казбека и многое другое изображается то легким карандашным штрихом. То маслом. В них хорошо переданы нерв движения, объемность воздушного пространства, настроение лирического пейзажа. Все это и делает его работы не дилетанскими, а вполне профессиональными. И последнее, на чем мне бы хотелось остановиться – на внешнем облике и характере поэта. Перечитывая воспоминания современников, я попала в настоящий круговорот мнений, противоречащих одно другому. Лермонтов представляется очень разным и в красках, и в словах. На одних портретах мы видим его с правильными чертами лица, с большими выразительными глазами, с огромным лбом и маленькими щегольскими усиками. На других – с глазками – щелями, с узким подбородком и чуть вздернутым носом, на третьих – уставшим, похудевшим и печальным. По одним воспоминаниям глаза Лермонтова «сверкали мрачным огнем», по другим – «его пламенные, но грустные глаза смотрели приветливо, с душевной теплотой». Одни запомнили его холодным, желчным, раздражительным, со злой саркастической улыбкой; другие – задумчивым и печальным; третьи – буйным, шумным, разгульным. И какого же Лермонтова нам выбрать? Думаю, ничего не надо выбирать. Все это и есть Лермонтов! Его можно представить лишь в динамике, в резких сменах душевных состояний, в быстром движении мыслей, в постоянной игре лица. В нем уживались сила и воля духа и безмерное страдание. А свой романтический, мечтательный характер он, как щитом, прикрывал холодностью и угрюмостью. Одни его ненавидели, другие любили и ценили. Н. Раевский писал: «У многих сложился такой взгляд, что у него тяжелый, придирчивый характер. Так вот – это неправда! Любили мы его все. Пошлости, к которой он был необыкновенно чуток, в людях не терпел, но с людьми простыми и искренними и сам был прост и ласков». Да, в воспоминаниях друзей он всегда оставался добрым характером, любящим сердцем, увлекающейся натурой. Но разве можно быть постоянно таким, когда вокруг враждебный и беспомощный мир? И чувство одиночества в царстве ядовитой клеветы и предательства придавало его поэзии характер трагический и бунтарский:
И ненавидим мы, и любим мы случайно Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви, И царствует в душе какой – то холод тайный, Когда огонь кипит в крови!
Прошло 200 лет!... Но поэзия Лермонтова не покрылась пылью истории, не канула в вечность. Она современна, актуальна и сегодня. Его стихи по – прежнему волнуют, заставляют задуматься, размышлять о судьбах Родины, общества и отдельного человека. И потому через всю жизнь проносим мы в душе образ этого человека – грустного, нежного, мечтательного, язвительного, насмешливого с могучими страстями и беспощадным умом. Образ великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова!
Тамара Белицкая. Из сборника произведений тульских писателей Иван – озеро. | |
| Просмотров: 630 | |
| Всего комментариев: 0 | |