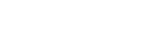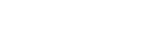| Главная » Статьи » Краеведение |
Часть 2 В восьмом поколении Лермонтовых значится тридцать один потомок. Мы расскажем о Михаиле Юрьевиче, его двоюродной сестре Анне Антоновне и правнучатых братьях Иване Николаевиче, Дмитрии Николаевиче и Петре Николаевиче из Острожской ветви. Михаил Юрьевич Лермонтов родился 3(15) октября 1814 года в городе Москве. Его мать Мария Михайловна вскоре заболела скоротечной чахоткой и в возрасте двадцати двух лет, когда Михаилу Юрьевичу было всего два года, умирает. Его бабушка выговаривает себе у отца право воспитывать внука, обещая завещать ему всё своё состояние. Михаил Юрьевич воспитывается вдалеке от отца и только изредка его навещает. Отношения М. Ю. Лермонтова с отцом не были совсем понятны и сложны, сам поэт в известном стихотворении пишет: Ужасная судьба отца и сына Жить розно и в разлуке умереть, И жребий чуждого изгнанника иметь На родине с названьем гражданина!.. Мы не нашли вражды один в другом, Хоть оба стали жертвою страданья!- Не мне судить, виновен ты иль нет, - Ты светом осуждён! Но что такое свет!... Во многих исследованиях жизни и творчества поэта, пишут о бабушке любившей беззаветного внука и ненавидящей отца и очень редко дававшей свидания отца с сыном. А почему и не оправдать Елизавету Алексеевну?
У Елизаветы Алексеевне не было наследников. Чтобы её Мишель не заболел чахоткой, вот она и оберегала его от частых связей с отцом. Нам кажется это логично. Михаил Юрьевич сначала воспитывался и обучался в Тарханах – дома. В 1827 году он едет с бабушкой в Москву, проездом они останавливаются в Васильевке. В воспоминаниях художника М. Е. Меликова, когда Михаилу Юрьевичу было 13 лет дан словесный портрет: «Наружность его невольно обращала на себя внимание: приземистый, маленького роста, с большой головой и бледным лицом, он обладал большими карими глазами, сила обаяния которых до сих пор остаётся для меня загадкой. Глаза эти с длинными чёрными ресницами, делали их ещё глубже, производили чарующее впечатление на того, кто был симпатичен Лермонтову. Во время вспышек гнева они бывали ужасные. Я никогда не в состоянии был бы написать портрет Лермонтова при виде неправильностей в очертании его лица, и, по моему мнению, один только К. П. Брюлов совладал бы с такой задачей, так как он писал не портреты, а взгляды ( по его выражению «Оставить огонь глаз»). На обратном пути из Москвы летом 1827 года Михаил Юрьевич гостил у отца сравнительно долго. Здесь в старом тенистом парке стоял небольшой одноэтажный дом с мезонином, в котором, по воспоминаниям очевидцев: «крайнее правое окно – комната Михаила Юрьевича, рядом два окна – спальня Юрия Петровича, комната с балконом – гостиная, три окна с левой стороны – зал (43 квадратных метра). По другую сторону дома через коридор – столовая и две комнаты сестёр Юрия Петровича». В это время 13 летний Миша испытал одно из первых своих увлечений к сверстнице кузине Анне Григорьевне Столыпиной; заехавшей вместе с ним в Кропотово. Это увлечение нашло отражение в стихотворении «К гению». Но ты забыла, друг! Когда порой ночной Мы на балконе так сидели. Как немой, Смотрел я на тебя с обычною печалью. Не помнишь ты тот миг, как я, под длинной шалью Сокрывши голову, на грудь твою склонял – И был ответом вздох, твою я руку жал – И был ответом взгляд и страстный и стыдливый! И месяц был один свидетель молчаливый! Последних и невинных радостей моих! (1829) К автографу этого стихотворения поэт делает небольшое добавление: «Напоминание о том, что было в Ефремовской деревне в 1827 году, где я во второй раз полюбил в 12 лет – и поныне люблю». Анна Григорьевна ( в последствии Философова ) вдохновила и на другие стихотворения Михаила Юрьевича: «К…» ( не привлекай меня красой) и «Дереву» Давно ли с зеленью радушной Передо мной стояло ты, И я коре твоей послушной Вверял любимые мечты; Лишь год назад два талисмана Светилися в тени твоей, И ниже замысла обмана Не скрылося в душе детей!... К этому стихотворению в автографе Михаил Юрьевич делает такую пометку: «(Моя эпитафия) Моё завещание ( про дерево, где я сидел с А. С.)». В Кропотовском парке перед домом стоял молодой тополь, и на его коре поэта вырезал ножом свой вензель: «М.Ю. Л.» Этот вензель, считали наиболее важной достопримечательностью этой мемориальной усадьбы. Но за три дня нахождения немецко – фашистких захватчиков в Кропотове были уничтожены и дом Лермонтова, и этот тополь с вензелем… Был и третий раз Михаил Юрьевич в Кропотово на похоронах отца в октябре 1831 года. Это подтверждается стихотворением «Эпитафия», Юрий Петрович был похоронен у церкви соседнего села Шипово вместе с родственниками. В 1973 году его останки Юрия Петровича были выкопаны, перевезены и захоронены вновь в Тарханах (Лермонтово) рядом с прахом сына. В 1835 году был раздел имущества в Кропотово. Но по сохранившимся письмам Михаил Юрьевич с бабушкой, он не был на разделе имущества. Двоюродный дядя великого поэта А.П. Шан – Гирей ( но младше его) в мемуарах «М. Ю. Лермонтов» пишет: - «В Мишеле нашёл я большую перемену, он был уже не дитя, ему минуло 14 лет; он учился прилежно… Тут я в первый раз увидел, русские стихи у Мишеля: Ломоносова, Державина, Дмитриева, Озерова, Батюшкова, Крылова, Жуковского, Пушкина и Козлова, тогда Мишель прочёл мне своего сочинения стансы К***. Меня ужасно заинтриговало, что значит слово стансы и зачем три звёздочки?... Надо сказать, что Московский университетский пансион, куда поступил Михаил Юрьевич осенью 1828 года, сразу в четвёртый класс, как полупансионер жил дома. К нему то и приехал Шан – Гирей. Этот университетский пансион сохранял с прежних времён направление – литературное. Во время учёбы в Москве не раз приезжал к сыну Юрий Петрович. Об одном из приездов после экзаменов в начале 1829 года в письме к тётке поэт пишет:»… Папенька сюда приехал, и вот уже две картины извлечены из моего портфеля, и слава богу! Что такими любезными руками!». В воспоминаниях Акима Шан – Гирея рассказывается, что «Мишель начал учиться английскому языку по Байрону и через несколько месяцев стал свободно понимать его;…». Осенью 1830 года после окончания пансиона, М. Ю. Лермонтов поступает на нравственно – политическое отделение Московского университета. Эти два года 1830 -1832 сыграли важную роль в формировании мировоззрения поэта. За годы университетского пансиона и университета Лермонтов совершил огромный труд: написал около 300 стихотворений, три драмы, тринадцать поэм (включая две ранние редакции «Демона»). С 1831 года он начал разрабатывать кавказскую тему и в 1832 году пишет самую крупную из юношеских поэм «Измаил бей». Весной 1832 года Лермонтов оставил Московский университет. Точно неизвестна причина ухода. Правда, были серьёзные факты резких высказываний поэта о закоснелых профессорах. Видимо охладев к занятиям и увлечённый творчеством, Лермонтов не явился на весенние экзамены, и ему «Посоветовали уйти». В правилах о наказании студентов, была определена мера, за которой следовало исключение из университета. Лермонтов решил перейти в Петербургский университет. О периоде жизни в университете в статье «О развитии революционных идей в России» А.П. Герцен пожалуй лучше всех рассказал о Михаиле Юрьевиче. «Он (Лермонтов) полностью принадлежит к нашему поколению. Все мы были слишком юны, чтобы принимать участие 14 декабря. Разбуженные этим великим днём, мы увидели лишь казни и изгнания. Вынужденные молчать, сдерживая слёзы, мы научились, замыкаясь в себе, вынашивать свои мысли – и какие мысли! Это уже не были идеи просвещенного либерализма, идеи прогресса, - то были сомнения, отрицания, мысли полные ярости. Свыкшийся с этими чувствами, Лермонтов не мог найти спасение в лиризме, как находил его Пушкин. Он влачил тяжкий груз скептицизма через все свои мечты и наслаждения. Мужественная печальная мысль всегда лежит на его челе, она сквозит во всех её стихах. Это не отвлечённая мысль, стремящаяся украсить себя цветами поэзии; нет, раздумья Лермонтова – его поэзия, его мучение, его сила… К несчастью быть очень проницательным у него присоединились и другое – он смело высказывался о многом, без всякой пощады и без прикрас. Существа слабые, задетые этим, никогда не прощают подобной искренности. О Лермонтове говорили, как о баловном отпрыске аристократической семьи, как об одном из тех бездельников, которые погибают от скуки и пресыщения, не хотели знать, сколько боролся этот человек, сколько выстрадал, прежде чем отважился высказать свои мысли. Люди гораздо снисходительней относятся к брани и ненависти, нежели к известной зрелости мысли, нежели к отчуждению, которое, не желая разделять их тревогу , ни их надежды, смеет открыто говорить об этом разрыве. В статье «Стихотворения Лермонтова» В. С. Межевич между прочим «Лет десять тому назад, помнится захаживал, бывало, в Московский университет /Я был в то время студентом/ молодой человек, с смуглым выразительным лицом, с маленькими, но необыкновенно быстрыми, живыми глазами – это был Лермонтов. Некоторые из студентов, видели в нём доброго товарища… Лермонтов переехал в столицу и когда ему в Петербургском университете не зачли курса прослушанного в Московском университете, он поступил в школу гвардейских прапорщиков и кавалерийских юнкеров. Товарищ по юнкерской школе А.М. Меркинский писал : «…В юнкерской школе Лермонтов был хорош со всеми товарищами, хотя некоторые из них не очень любили его за то, что он преследовал их своими острыми и насмешками за всё ложное, натянутое и неестественное, чего никак не мог он переносить. В последствии и в свете он не оставил этой привычки, хотя имел за то много неприятностей и врагов… В обществе Лермонтов был очень злоречив, но душу имел добрую; как его товарищ, знавший его близко, я в этом убеждён. Многие его недоброжелатели уверяли в противном и называли его беспокойным человеком». Так в «Воспоминаниях о Лермонтове» высказал своё мнение товарищ Михаила Юрьевича по юнкерской школе А. М. Левинский. В 1835 году Михаил Юрьевич окончил юнкерскую школу и выпущен корнетом. Один из близких друзей Михаила Юрьевича Святослав Аонасьевич Раевский писал в объяснений: по поводу дуэли «… Лермонтов имеет особую склонность к музыке, живописи и поэзии, почему свободные у обоих нас от службы часы проходили в сих занятиях, в особенности последние 3 месяца, когда Лермонтов по болезни не выезжал. В январе Пушкин умер. Когда 29 или 30 дня эта новость была сообщена Лермонтову с городскими толками о безымянных письмах, возбудивших ревность Пушкина и мешавших ему заниматься сочинениями в октябре и ноябре /месяцы, в которые, по слухам, Пушкин исключительно сочинил/, - то в тот же вечер Лермонтов написал элегические стихи…»
В Юнкерской школе и после её окончания у Лермонтова был самый интенсивный период творчества. Большое количество стихов, поэмы: «Хаджи Абрек», «Боярин Орша», драма «Маскарад», роман «Княгиня Ольга» и другие. Даже находясь под арестом на гаупвахте, написал стихи: «Когда волнуется желтеющая нива», «Я матерь Божия, ныне с молитвою», «Кто б ни был ты, печальный мой сосед» и добавил последнюю строфу к ранее написанному стихотворению «Отвори мне темницу». Началась служба в Нижегородском полку на Кавказе. В октябре 1837 года Николай 1 делал смотр кавказских войск в Тифлисе и остался доволен Нижегородским полком. Это сказалось на судьбе поэта, хлопоты бабушки и поэта Жуковского увенчались приказом, где было объявлено о переводе корнета Лермонтова в гродненский лейб – гвардии гусарский полк, который стоял под Новгородом, а весной 1838 года, Лермонтова вернули в его лейб – гвардии гусарский полк. В статье «Знакомство с русскими поэтами А.Н. Муравьёв, о встрече с Лермонтовым написал : «Мне случайно однажды, в Царском Селе, уловить лучшую минуту вдохновения. В летний вечер я к нему зашёл и застал его за письменным столом, с пылающим лицом и огненными глазами, которые были у него особенно выразительным… - Что с тобой? – спросил я. Сядьте и слушайте» - сказал он и в ту же минуту, в порыве восторга прочёл мне, от начала до конца, всю свою великолепную поэму «Мцыри» /Послушник, по - грузински/, которая только что вылилась из под его вдохновенного пера. Внимая ему, и сам пришёл я в неописуемый восторг; так живо выхватил сюжет о Кавказе, одну из его разительных сцен и облек в живые образы превелигированным взором. Никогда никакая повесть не производила на меня такого сильного впечатления…» Шло время, талант Лермонтова всё больше и больше проявлялся в прекрасных произведениях, шла своей чередой и жизнь поэта. Двоюродный брат поэта а.П. Шан – Гирей в воспоминаниях «М.Ю. Лермонтов» писал: «… Зимой 1839 года Лермонтов, был сильно заинтересован княгиней Щербаковой… Мне ни разу не случалось её видеть, знаю только, что она была молодая вдова, а от него слышал, что такая, что ни в сказке сказать, ни пером описать. То же самое, как видно… думал про неё и г. Де Барант, сын тогдашнего французского посланника в Петербурге. Немножко слишком явное предпочтение, оказанное на бале счастливому сопернику взорвало Баранта, он подошёл к Лермонтову и сказал запальчиво: «Вы слишком пользуетесь тем, что мы в стране, где дуэль воспрещена». «Это ничего не значит, я весь к вашим услугам». И на завтра назначена была встреча; это случилось в среду на масленице 1840 год /17 февраля/… Нас распустили из училища утром, и я, придя домой часов в девять, очень удивился, когда человек сказал мне, что Михаил Юрьевич изволили выехать в семь часов; погода была прескверная, шёл снег с мелким дожд1м. Часа через два Лермонтов вернулся весь мокрый, как мышь. «Откуда ты этак? – «Стрелялся». - «Как это зачем, с кем?» - «С французиком» . - «Расскажи.» Он стал переодеваться и рассказывать…/ Противники сперва дрались на шпагах. У Лермонтова переломилась шпага, и Барант слегка ранил его в руку. Затем стрелялись. Барант выстрелил и дал промах. Лермонтов выстрелил в воздух. Противники помирились и разъехались/. История эта оставалась довольно долго без последствий… Наконец одна неосторожная барышня , Б…, вероятно без всякого умысла, придала происшествию достаточную гласность в очень высоком месте, в следствии чего приказом по гвардейскому корпусу поручик лейб – гвардии Гусарского полка Лермонтов за поединок был предан военному суду с содержанием под арестом.. Скажем, что сына французского посланника Баранта выслали из России, Барант отец добился возвращения сына. Но для этого нужно Баранта оправдать, а Лермонтова унизить. Бенкендорф пошёл на это и позвал поэта к себе. А вот и письмо, которое написал 29 апреля 1840 года Лермонтов Великому князю Михаилу Павловичу: «Получив приказание явиться к господину генерал – адъютанту графу Бенкендорфу, я из слов его сиятельства увидел, что на мне лежит ещё обвинение в ложном показании, самое тяжкое, какому может подвергнуться человек, дорожащий своею честью. Граф Бенкендорф предлагал мне написать письмо к Баранту, в котором бы я просил извинения в том, что несправедливо показать в суде, что выстрелил на воздух. Я не мог на то согласиться, ибо это было бы против моей совести… Позвольте сказать мне со всей откровенностью: я искренно сожалею, что показание моё оскорбительно Баранта, я не предполагал этого, не имел этого намерения: но теперь не могу исправить ошибку посредством лжи, до которой никогда не унижался». Но оказалось, что ещё 13 апреля 1840 года был подписан «высочайший приказ»: «Поручика Лермонтова перевести в Тенгиский пехотный полк тем же чином». Переводя из гвардейской кавалерии в пехотный полк на Кавказ, непокорного поэта посылали под пули. Много разных событий происходило с Лермонтовым на Кавказе. Во многих военных операциях поручик Лермонтов вёл себя героически, трижды командование представляло его к награждению, но имя поэта каждый раз царь вычеркивал из списка представленных к награждению. Все читали прекрасное стихотворение «Валерик», но что происходило в Валерикском бою очень убедительно написано поэтом в письме А.А. Лопухиной 12 сентября 1840 года. Мой милый Алёша! Я уверен, что получил письма мои, которые я тебе писал из действующего отряда в Чечне, но уверен так же, что ты мне не отвечал, ибо я ничего о тебе не слышу письменно. Пожалуйста, не ленись; ты не можешь вообще вообразить, как тяжела мысль, что друзья нас забывают. С тех пор, как я на Кавказе… я не был нигде на месте, а шатался всё время по горам с отрядом. У нас были каждый день дела, и одно довольно жаркое, которое продолжалось 6 часов к ряду. Нас было всего 2000 пехоты, а их 6 тысяч; всё время дрались штыками. У нас убыло 30 офицеров и до 300 рядовых, их 600 тел осталось на месте – кажется, хорошо! – Вообрази себе, что где была потеха, час после дела ещё пахло кровью…» Во время боёв в Чечне, в Петербурге в цензурном комитете решали вопрос о выпуске первого сборника стихотворений опального поэта. На 13 августа 1840 года разрешено печатать , а 25 ноября первый сборник стихотворений Лермонтова вышел в свет. В конце февраля 1841 года М. Ю. Лермонтову разрешили отпуск. Об этом он пишет товарищу по юнкерской школе А.И. Бибикову: «Начну с того, что объясню тайну моего отпуска: бабушка моя просила о прошении моём, а мне дали отпуск, но скоро еду опять к вам, и здесь остаться у меня нет никакой надежды, ибо я сделал вот какие беды: приехав сюда в Петербург, на половине масленицы, я на другой же день отправился на бал к госпоже Воронцовой, и это нашли неприличным и дерзким. Что делать? Кабы я знал, где упасть, соломки бы подстелил; обществом, зато я был принят очень хорошо… 9 марта отсюда уезжаю заслуживать себе на Кавказе отставку; из Валерикского представления меня здесь вычеркнули, так что даже я не буду иметь утешения носить красной ленточки, когда надену штатский сюртук…» Много можно рассказывать интересного о великом поэте, но хочется привести выдержку из дневника московского почт – директора А.Я. Булгакова, который можно думать, вскрывая письма разных лиц был в курсе событий. Вот выписка из его дневника: «Сегодня /26 июля/ было получено известие, что он был убит 15 июля в Пятигорске на водах; он убит не на войне, не рукою черкеса или чеченца, увы, Лермонтов убит был на дуэли – русским». Вот как рассказывают - это печальное происшествие… Назначен день, час дуэли, выбраны секунданты. Когда явились на место, где надобно было драться, Лермонтов, взяв пистолет в руки повторил торжественно Мартынову, что ему не приходило в голову его обидеть, даже огорчить, что всё это была одна только шутка, а что ежели Мартынова обижает это, он готов просит прощения не только тут, но везде, где он только захочет!... «Стреляй!» - был ответ иступлённого Мартынова. Надлежало стрелять сначала Лермонтову, он выстрелил на воздух, желая кончить глупую эту ссору дружелюбно! Не так великодушно думал Мартынов, он был довольно бесчеловечен и злобен, чтобы подойти к самому противнику ему, и выстрелить ему прямо в сердце. Удар был так силён и верен, что смерть была столь же скоропостижна, как выстрел. Несчастный Лермонтов тотчас же испустил дух! Удивительно, что секунданты допустили Мартынова совершить зверский поступок. Он поступил против всех правил чести и благоразумной справедливости. Если он хотел, чтобы дуэль совершилась, ему следовало сказать Лермонтову: извольте зарядить опять ваш пистолет. Я вам советую хорошенько в меня целиться, ибо я буду стараться вас убить. Так поступил бы благородный, храбрый офицер. Мартынов поступил как убийца….» Действительно Мартынов вёл себя, как убийца и ему в этом помогал его секундант сын богатейшего князя Васильчикова у которого на Липецкой земле было поместье, а в Трубетчино Сахарный завод приносивший огромные доходы. Что же было за гнусное убийство Мартынову и его секунданту Васильчикову? Хорошо об этом написал Н.И. Лорер в «Записках декабристов»: «… Да ведь царь сказал:»Туда ему и дорога», узнав о смерти Лермонтова, которого не любил, и, я думаю, эти слова послужат к облегчению судьбы их…». Действительно, с убийцей и секундантом обошлись снисходительно: секундант в наказание зачли содержание под арестом во время следствия и велено обойти чином, Мартынова послали в Киев на покаяние на 12 лет. Но он там скоро женился на прехорошенькой польке и поселился в своём доме в Москве. В письме И. Молчанова, другу юности Герцена В.В. Посек от 13 июля 1841 года очень метко написано: «Странную имеют судьбу знаменитейшие наши поэты, большая часть из них умирает насильственной смертью. Таков был конец Пушкина, Грибоедова, Марлинского /Бестужева/… Теперь получено известие о смерти Лермонтова…» Скажем ещё, что в Липецке на Дворянской улице /ныне Ленина/ в своём доме, проживал товарищ университетских лет М.Ю. Лермонтова – Николай Фёдорович Турановский. Н.Ф. Турановский за день до трагической смерти поэт встречался с ним в Пятигорске. В своём дневнике Турановский записал: « Как давно, увлечённые живой беседой, мы переносились в студенческие годы, вспоминали прошедшее, разгадывали будущее… Он высказывал мне свои надежды скоро покинуть скучный юг и возвратиться к удовольствиям. Я не утаил надежд наших – литературных, и прочитал на память один из его произведений. Чёрные большие глаза его горели, он казался взбешён был моим восторгом и в благодарность продекламировал несколько стихов, которые и теперь звучат в моей памяти. Вот они: И скучно и грустно! – и некому руку подать В минуту душевной невзгоды… Желанья… Что пользы напрасно и вечно желать? А годы проходят, - все лучшие годы… Так провёл я в последний раз незабвенные два часа с Лермонтовым». Как известно у Михаила Юрьевича родных братьев и сестёр не было. Только у одной родной сестры отца Евдокии Петровны, по мужу Пожогиной – Острашкевич были дети: два двоюродных брата Михаил и Николай Антоновичи и двоюродная сестра Анна Антоновна по мужу Цехановская . последняя и стала владеть после смерти Михаила Юрьевича имением Кропотово, а в последствии Кропотово перешло дочери Клеопатре Цехановской. В Острожковской ветви Лермонтовых было много правнучатых братьев и сестёр, но мы расскажем об основателе второй Липецкой ветви Иване Николаевиче Лермонтове и его родных братьях Дмитрии, Петре и Василии, а всего в восьмом поколении было 31 Лермонтовых. Иван Николаевич /1810 -?/. Родился на Костромской земле. Артиллерии поручиком участвовал вы 1831 году в Польской Кампании и взятии Варшавы. Кавалер орденов Анны 3 степени, Станислава 2 степени, имел медаль за взятие Варшавы, польский знак отличия за военные достоинства /Вилитури Миллер 4 степени/. После войны, полк в котором служил И. Н. Лермонтов, был расквартирован в Задонском уезде Воронежской губернии /ныне Задонский район Липецкой области/. Здесь, он знакомится с Марией Николаевной Чириковой, делает ей предложение и женится. Получив в приданое имение Спасское – Чириково, уходит в отставку, живёт в имении жены, становится Задонским дворянином. В 1852 – 1853 годах уездный предводитель дворянства. В 1874 году – мировой судья Задонского уезда. И.Н. Лермонтов автор опубликованных статей о М.Ю. Лермонтове и родословной. В статьях много неточностей и домыслов. В частности, что сам он двоюродный брат поэта, поэтому лермонтоведы не принимают эти статьи как серьёзные. Дмитрий Иванович /1802 – 1854/ 14 декабря 1825 года, будучи командиром роты вместе с ней на Сенатской площади не зная о восстании декабристов. Увидев разворачивающиеся события, покинул роту и ушёл в ночь на 15 декабря был арестован. Участие в восстании декабристов не сказано, возвращён на службу в гвардейский экипаж. Участник войны в 1829 году. Георгиевский кавалер. В 1853 году с уходом в отставку получил чин генерал – майора флотской службы. Женат на Александре, от которой имел пять сыновей и трёх дочерей. Пётр Николаевич /1791 – 1843/ окончил морской корпус в 1811 году, участвовал в войне 1812 – 1814 г.г. Уволен в отставку капитан – лейтенантом. Был предводителем дворянства в Чухломском уезде. Жена Прасковья Степановна урождённая Кофтырёва, от неё имел трёх дочерей и сына Николая.
| |
| Просмотров: 995 | |
| Всего комментариев: 0 | |