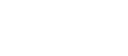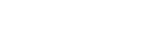| Главная » Статьи » Любознательным |
«В полдневный жар...»Ранним утром он нетерпеливо откидывал занавеску, распахивал окно, чтобы в сонную комнатку хлынул майский холод черёмухи, блеск ещё не греющего солнца, звук далёкого кукования. Шумел ветер по вершинам дерев тарханского парка. Утро было независимо и тем прекрасно. Ничья воля над ним не властвовала: оно существовало вне человека. Впечатление от мерцающей реки или от ореховой ветки, насквозь просвеченной солнцем, сродни откровению. Мише необходимо выразить это вслух; он изнемогает от немоты... И, как за спасение, ухватывается за чьи-то строчки, твердит их, окружая простенький куплет радужной оболочкой. Произнесённое вслух слово ещё не полностью воплощено. Он смутно понимает это и спешит в мезонинчик, отмахивается от вопросов няни Христины Осиповны, раскрывает тетрадь, чтобы записать стихи, которые так кстати вспомнились, пришли ему на выручку. Пишет, пишет, не замечая, что уже вырывается из чужого текста, переиначивает его по-своему. Он сочиняет, почти не ведая того. Христина Осиповна, не зная, как отнестись к внезапному прилежанию питомца, то и дело заглядывает через порог, шумно вздыхает, вполголоса бормочет по-немецки: прилежание украшает доброго мальчика. По лестнице поднимается бабушка. Она несколько часов не видела внука. Слава богу, вот он, за столиком. Круглая темноволосая голова со светлой прядкой. — Мишенька... — Бабушка! Послушайте, что я написал. Он читает вслух, торопясь, захлёбываясь и уже хмурясь: только что эти рифмы звучали в нём, как целый оркестр, а сейчас сникают и гаснут. На глазах у него слёзы, лицо обиженное и несчастное. — Ах, да что же ты, голубчик мой? Право, переписано красиво, ровно... О чём ты? А мальчик плачет всё горше, не умея ничего объяснить. Про себя он думает в ожесточении, что никогда больше не станет читать и списывать этих гадких стихов. Он полон к ним вражды, недоверия. Но проходит минута, другая... утешенный ложкой варенья он ласкается к бабушке и просит привезти ему новые книги, в смутной надежде отыскать в них то, чего недоставало в прежних. — Будь по-твоему, дружок,— соглашается бабушка.— На будущей неделе пошлю Абрамку Соколова в Москву для хозяйственных надобностей. Пусть сходит на Поварскую к братцу Дмитрию Алексеевичу. Дам письмо. Ужо отыщут тебе на Кузнецком мосту лучшие стихи с картинками! На следующий день Миша опять сидит над раскрытой тетрадкой. Как все дети, он не может жить ожиданием, ему нужно дело, которое приносит немедленные плоды. Переписывая чужие стихи, он переиначивает их всё чаще и смелее, стремится найти такую рифмованную строку, которая одним глотком утолит в нём бессознательную жажду. Это и произошло однажды. Строка из Бестужева-Марлинского вонзилась внезапно, едва наткнулся на неё взгляд. Канула в него, как камень в колодец. Без плеска. Иногда казалось, что она всё ещё летит, не достигая дна. Да и есть ли дно у души?.. ...Белеет парус одинокий... Он помнит, как захватило дыхание. Испытал нечто похожее на удар по сердцу. На пророческую весть издалека. Белеет парус одинокий... Бедняга Марлинский! Лермонтов читал его поэму, как слепой: ...То видим, то опять смываем, Водил глазами, но не ощущал строк. А они толкались, громоздились, и давно бы уже задавили собою ту единственную строку, если бы Лермонтов не держал её на ладонях, у губ... Белеет парус одинокий! Но всё это случилось гораздо позднее, когда его детские и отроческие годы уже миновали. Впрочем, лермонтовский возраст — явление совершенно особое, поразительное и не совпадающее ни с чем. Гигантский метроном словно отсчитывал над ним дни, часы и минуты во всё убыстряющемся темпе. С шестнадцати до двадцати семи неполных лет он прожил колоссальную по возможностям и великую по свершениям жизнь. Бесполезно искать истоки грандиозности духа поэта в характере желчного, но мало предприимчивого отца. Энергии Юрия Петровича хватило лишь на вы годную женитьбу. Воспользоваться её плодами он уже не умел. Мать прошла по жизни сына бледным пятнышком. Проживи она ещё, едва ли запомнилось большее: тоскливая медлительность движений, покорное увядание души. И Марья Михайловна исчерпала жизненные силы в одном-единственном поступке: желании отдать себя отставному офицеру из тульского захолустья, которой делил кров с целым выводком сестёр-бесприданниц. Бабка Елизавета Алексеевна, которой ко дню рождения внука стукнуло не более сорока лет (это она потом намеренно прибавляла себе годы, чтобы в борьбе с зятем выставлять напоказ мнимую дряхлость), была тяжела на руку, прижимиста и ограниченна. Ни в чём не переступала обычаев клана Столыпиных, дворян-предпринимателей, разбогатевших на винокурении. Бабка вела хозяйство жёстко и старомодно: за любую малость драла крепостных. Но могла, не дрогнув, заложить имение, чтобы дать взаймы крупную сумму любимой племяннице Марье Шан-Гирей. Была хлебосольна, в доме постоянно жили чужие: всевозможные вдовы и старые девицы вроде поповен Макарьевых. А чтоб не скучал Мишенька в учении, собрала целый пансион окрестных дворянских сынков. Кроме братьев Юрьевых и княжат Максютовых (их село Нижнее Ломово стало местом действия романа «Вадим»), пригласила, смирив нрав, прилежного мальчика Пожогина-Отрашкевича, родню по лермонтовской линии. На учителей средств не жалела: на Благородный пансион выкладывала, не моргнув, по шестисот пятидесяти рублей, вырученных на ржи, овсе и горохе, а англичанин Виндсон обходился ей и того больше — в три тысячи рублей за год. Но вечно прибеднялась: объявила казне доход с имения в пятьсот рублей, а действительный был более двадцати тысяч! И она же со странной алчностью уговаривала впоследствии Лермонтова брать деньги из «Отечественных записок» за стихи... Словом, Елизавета Алексеевна Арсеньева, урожденная Столыпина, была фигурой сильной, но вполне ординарной. Можно перебирать одного за другим его предков и родичей в обозримом прошлом, начиная с XIV века от ордынского мурзы Ослана, перешедшего на службу к московскому князю (его крещёный сын Арсений положил начало фамилии). Или шотландца Джорджа Лермонта, наёмная шпага которого честно обороняла Арбатские ворота в дни Смутного времени. Следующий Лермонтов, Петр Юрьевич, считался уже русским дворянином, имел пожалованные пустоши и деревеньки, сидел воеводой в Саранске. Все Лермонтовы, поколение за поколением, целый ряд Юриев Петровичей и Петров Юрьевичей (родовому имени изменили лишь под давлением самовластной бабки) носили армейские мундиры, не запятнав их трусостью. Были в его родне странности, были чудачества, была хозяйственная жадная хватка, случались всплески благородства и твердости, как у двоюродного деда Аркадия Алексеевича Столыпина, сочувственника декабристам. Или его родной сестры Екатерины Александровны Хастатовой, кавказской генеральши, — «авангардной помещицы», обосновавшейся на границе с немирными аулами. Приходится утвердиться в мысли, что гениальный дар Лермонтова — и не только писательский, а вся его колоссальная фигура — созидались духовными усилиями целого народа. Минуя родичей, как и другие его великие современники — Пушкин, Гоголь, Глинка, — он был Сыном России. То, что солнечный блеск Пушкина не затмил Лермонтова, что он, почти юноша, был назван единодушно его наследником, говорит само за себя. (Даже царь нехотя, сквозь зубы принудил себя после первого, искренно вырвавшегося восклицания «Собаке — собачья смерть!», поправиться с постной миной: «Господа, тот, кто должен был заменить Пушкина, погиб».) Но Лермонтов не только наследовал: он начинал. От него, как от валдайского водораздела, возникали многошумные реки разных направлений русской литературы. Достаточно припомнить досадливо-восхищённые слова Льва Толстого: «Если бы этот мальчик прожил подольше, ни мне, ни Чехову нечего было бы делать в русской литературе». Непревзойдённый стилист Бунин, замыкая круг литературных и жизненных прозрений, за два дня до смерти сделал удивительное признание: «Я всегда думал, что наш величайший поэт был Пушкин. Нет, это Лермонтов. Просто представить себе нельзя, до какой высоты этот человек поднялся бы, если бы не погиб двадцати семи лет...» Этот мальчик... Этот великий поэт... Создатель противоречивого героя времени... «Демон самолюбия, а не страдания» — по ревнивому мнению Гоголя. Кто же он? Изгой общества, гордо отстранившийся от всех, если довериться сбивчивым воспоминаниям современников? Или, напротив, средоточие грозового облака своей эпохи, сгусток её мыслей и энергии?.. Елизавета Алексеевна призвала Христину Осиповну и, едва завидя её в дверях, начала срывающимся голосом: — Ты, матушка, кундштюки свои оставь! У тебя на руках русский барин из рода Столыпиных, а не немецкий голодранец, которому нужда расшаркиваться перед каждым. Моему внуку, окромя государя, кланяться никому невмочно. — Я не понималь...— пробормотала немка, покрываясь красными пятнами. — Распрекрасно всё понимаешь, мать моя! Мишенька всему имению хозяин, хоть и мал ещё. Пнул, накричал его воля. А ты вон что удумала: барину перед дворовым человеком извиняться! Прощенье просят только в светлое воскресенье, да и то с разбором. — Жестокосердие не есть хороший воспитание для кинд.— Как всегда при волнении Христина Осиповна сбивалась в русском произношении.— Если кинд не может чувствовать, он не есть благородный... Я перед богом за него отвечаю...— Слёзы брызнули из серых добрых глаз. Бабушка несколько секунд озадаченно смотрела на неё. — Сгоню я тебя со двора, мать моя. Дождёшься. Христина Осиповна побагровела и затрясла щеками: — Сам ушель... Корочку хлеба, вода глоток, но душа не есть виновата перед мой любимый малшик Михель... — Полно, полно,— примирительно сказала хозяйка, прикинув в уме, что прогнать няньку не штука, а вот где взять другую, чтобы честна была на руку? — Ступай, с богом, а слова мои помни. Ты не будешь бить, тебя побьют. Не нами свет устроен. Она протянула руку, и Христина Осиповна приложилась к ней, будто клюнула, замочив остатками слёз. «Глупая да верная,— подумала Елизавета Алексеевна со вздохом.— Мал ещё Мишенька. Войдёт в разум, сам переменится. Он столыпинский, арсеньевский... От капитанишки одна фамилия. Тьфу, каинова печать!» Даже мимолетная мысль о зяте вызвала в ней желчь. Руки задрожали, заколотилось от ненависти сердце. Хорошо, что у крыльца в тот миг зазвенели бубенцы, и из сеней уже бежали с докладом: — Братец пожаловали! Господин Столыпин. Маленький Лермонтов кинулся в историю, как в увлекательный роман: он то лепил героев древности из цветного воска, то сочинял им пышные речи на домашнем театре, перекладывал каждую знаменитую личность на себя, с лёгкостью жил в разных эпохах. Вечерний рассказ заночевавшего в Тарханах Афанасия Алексеевича Столыпина о Бородинском сражении, коего тот был свидетель и участник, перевернул Мишино сознание. Значит, геройское время не вовсе миновало?! Вот сидит перед ним в гостиной, у жарко натопленной печи дед Афанасий, покуривает, небрежно крестит зевающий рот, собираясь на боковую,— а между тем именно он дышал пороховым дымом славной битвы! — Что тебе рассказать, братец ты мой? — гудел тот, поглядывая на ровное тёплое пламя свечей, словно оно-то и помогало ему воскресить прошлое. — Дело началось на рассвете. Солнце вставало, но ещё не поднялось. Наш батарейный командир как приметил движение кирасир, так и взял на передки, выехал рысью. Ожидали неприятеля в полном спокойствии. Мои орудии были заряжены картечью. Я подпустил французов поближе: приказ был расстроить их ряды, чтоб споспешествовать в атаке кирасирам. Ну, скомандовал первый выстрел, затем другой, третий... — Дядя, миленький!.. Вы победили?! — Маневр удался. Но то было лишь начало! Баталия длилась до темноты. Лошадь подо мною убило. Жаль конька. Прыткий был, киргизских кровей... — Да полно, Мишенька,— сказала наконец бабка.— Тебе спать пора. И Фонюшка завтра чуть свет к себе уедет. — Как уедет? — дрожащим от слёз голосом вскричал мальчик.— А кто мне расскажет дальше про Бородино? — Да кто хочешь,— добродушно отозвалась бабушка. — Пол-России там воевало. Хоть постоялец у Лушки Шубениной, Митрий... Он тоже на Бородине был. Ваню его тебе завтра кликнуть. А сейчас Христос с тобою, ступай. Отведи его, Христина Осиповна. Миша ушел, глубоко потрясённый новым открытием: история приютилась в избушке Шубениных. Миша обошёл всех тарханских служивых одного за другим. И Егора Леонтьева, которого забрили на государеву службу ещё за десять лет до Отечественной войны, и дворового Петрушку Иванова, и молодцеватых братанов Усковых — один служил эскадронным писарем, другой конником; пехотинцев Васильева с Андреевым, пензенских ополченцев Никиту Шошина и Иуду Ижова, которых бабушка снаряжала за собственный счёт, дав им, как положено, на дорогу по две нижние рубахи, да порты из синего холста без карманов, домотканые суконные штаны, шапку, льняные портянки с онучами, в придачу к сапогам с полушубком... Миша Лермонтов выискивал крохи истории в песнях про удалого волжского атамана Разина, с замиранием сердца узнавал от дворовых, что пугачёвцы побывали и в их Тарханах. Тем же летом на Кавказе, в Горячеводске, в доме на склоне Машука, где засыпали под перекличку казачьих пикетов, заслушивался рассказами про штурм Очакова хозяина дома генерала Акима Хастатова, мужа бабушкиной сестры Екатерины и воспоминаниями своего двоюродного деда Александра Алексеевича Столыпина, адъютанта Суворова... А в это самое время История вживе надвинулась на Россию. Конец 1825 года, потрясая основы империи, грянул восстанием декабристов! До Пензы доползли тревожные слухи, по усадьбам начались поспешные аресты, с амвона тарханской церкви поп призывал перехватывать подметные письма об отмене крепостного права и выдавать властям смутьянов... А в Москве, в одночасье, с промежутком в несколько месяцев, скончались два бабушкиных брата: Аркадий Алексеевич и Дмитрий Алексеевич. Те Столыпины, которых заговорщики прочили в правительство. Умолчания и недоговорки родных толкали мальчика к размышлению. «Союз спасения» и Союз благоденствия» образовались, когда Лермонтову не исполнилось и двух лет, — в феврале 1816 года. Тогда же вышла и «История Государства Российского» Карамзина. Весь шум, восторг, пыл упрёков, мечты о разумном будущем шли где-то вдали от ребенка, неведомо для него. До тарханской глуши не долетало никаких отголосков: быт оставался улежавшимся. Бабка круто вела хозяйство: женила и разлучала дворовых по своему усмотрению, взыскивала неусыпно; по наветам наушницы Дарьюшки могла ни за что ни про что дать по бокам. В проекте конституции Никита Муравьев, глава Северного общества, писал, что «власть самодержавия равно гибельна и для правителей и для общества... Нельзя допустить основанием правительства — произвол одного человека...» Этих слов Лермонтов не услышит и через двадцать лет. Новое поколение начинало свой путь не с пригорка, а опять от низины — собственными ногами, своим разумением. Л. Обухова | |
| Просмотров: 242 | |
| Всего комментариев: 0 | |